«Ди-цзы Кунг-фу»
В Центре изучения и развития Шаолиньской Традиции
боевое искусство монастыря Шаолинь
Кунг-Фу с флейтой
Шаолиньское кунг-фу в своей основе включает множество различных стилей и техник, многие из которых имеют тысячелетнюю историю и развивались под воздействием философии буддизма, даосизма и конфуцианства. В традиции монастыря Шаолинь есть несколько видов оружия, и каждое из них имеет свой уникальный стиль обращения и философский смысл.
Одно из самых старых и универсальных оружий в кунг-фу и монахов Шаолинь — посох (длинная палка или шест). Это первое оружие, владению которым обучали монахов, поскольку странствующий монах не имел права носить оружие. Применение посоха символизирует простоту и эффективность. Обычно длина палки составляет около 1,8-2 метра (или рост практикующего плюс 3-4 пальца).
Флейта встречается реже и обычно становится инструментом защиты и боевым оружием для монахов, практикующих Суйдзен ("дыхание Дзен") - медитативные техники при помощи флейты. Как оружие, сочетает в себе скрытность, элегантность и силу. Идея использования флейты заключается в том, что вы можете взять любую короткую палку (50-90 см) и тренироваться защищать себя, не приобретая специальное оружие. Однако мы рекомендуем практиковать боевое искусство неразрывно с медитацией суйдзен.
Одно из самых старых и универсальных оружий в кунг-фу и монахов Шаолинь — посох (длинная палка или шест). Это первое оружие, владению которым обучали монахов, поскольку странствующий монах не имел права носить оружие. Применение посоха символизирует простоту и эффективность. Обычно длина палки составляет около 1,8-2 метра (или рост практикующего плюс 3-4 пальца).
Флейта встречается реже и обычно становится инструментом защиты и боевым оружием для монахов, практикующих Суйдзен ("дыхание Дзен") - медитативные техники при помощи флейты. Как оружие, сочетает в себе скрытность, элегантность и силу. Идея использования флейты заключается в том, что вы можете взять любую короткую палку (50-90 см) и тренироваться защищать себя, не приобретая специальное оружие. Однако мы рекомендуем практиковать боевое искусство неразрывно с медитацией суйдзен.
Особенности кунгфу с флейтой
Как и шест, бамбуковая флейта использовалась как скрытое оружие. Прочная конструкция позволяла применять её для защиты. Совмещает функции инструмента для медитации дзэн и боевого искусства.
Преимущества использования флейты:
- Скрытое ношение
- Отвлечение внимания музыкой
- Неожиданность применения
- Развитие координации и точности
Духовный аспект:
- Сочетание боевого искусства с музыкальной медитацией
- Развитие гармонии тела и духа
- Практика контроля дыхания
Музыка помогает монахам сосредоточиться и развивать внутреннюю гармонию, что является важной частью их обучения. В философии Шаолиньского кунгфу подчеркивается важность гармонии между телом и духом, что также отражается в использовании медитативных и музыкальных инструментов, таких как флейта.
Важно отметить, что в традиции Шаолинь владение оружием всегда рассматривалось как часть духовной практики, а не просто боевой подготовки. Истинный мастер не ищет применения оружию, но всегда готов его использовать.
- Сочетание боевого искусства с музыкальной медитацией
- Развитие гармонии тела и духа
- Практика контроля дыхания
Музыка помогает монахам сосредоточиться и развивать внутреннюю гармонию, что является важной частью их обучения. В философии Шаолиньского кунгфу подчеркивается важность гармонии между телом и духом, что также отражается в использовании медитативных и музыкальных инструментов, таких как флейта.
Важно отметить, что в традиции Шаолинь владение оружием всегда рассматривалось как часть духовной практики, а не просто боевой подготовки. Истинный мастер не ищет применения оружию, но всегда готов его использовать.
первое правило панча-сила (пять предписаний)
"Panatipata veramani sikkhapadam samadiyami" -
"Я принимаю правило воздерживаться от убийства живых существ."
"Я принимаю правило воздерживаться от убийства живых существ."
Кунг-Фу с флейтой
в Шаолиньском стиле
в Шаолиньском стиле
В этом видео представлена техника ударов флейтой или короткой палкой из системы Чой Ли Фут (Цай-ли-фо, или цайлифоцюань - один из южных шаолиньский стилей). Форма выполняется с помощью флейты, но если ваша флейта изготовлена не из прочного материала, то для реального применения и практического использования рекомендуется использовать более прочную палку. Это не полный углубленный урок по бою на палках, а простое введение с использованием знакомой работы ног для помощи в обучении.
слова Будды из Дхаммапады (Dhp 201)
"Победа порождает ненависть; побежденный живет в печали.
В счастье живет спокойный, отказавшийся от победы и поражения."
В счастье живет спокойный, отказавшийся от победы и поражения."
Из свода законов дзэн буддийских монахов комусо "Кётаку дэнки"
(свод основных принципов учения Фукэ-сю "Хонсоку"):
"Сякухати - это инструмент Закона (Дхармы) и в ней заложены бесчисленные значения. Сякухати сделана из трех колен бамбука и разделена на две части. Три колена - это Небо, Земля, Человек. Четыре верхних отверстия - солнце, одно нижнее - луна, пять отверстий - это также пять элементов. В целом сякухати - источник всех вещей. Если человек играет на сякухати, все вещи приходят к нему. Его разум, область света и область тьмы становятся одним".
Раздел, посвященный сякухати, завершался словами:
"одной бамбуковой трубкой повернуть колесо Закона".
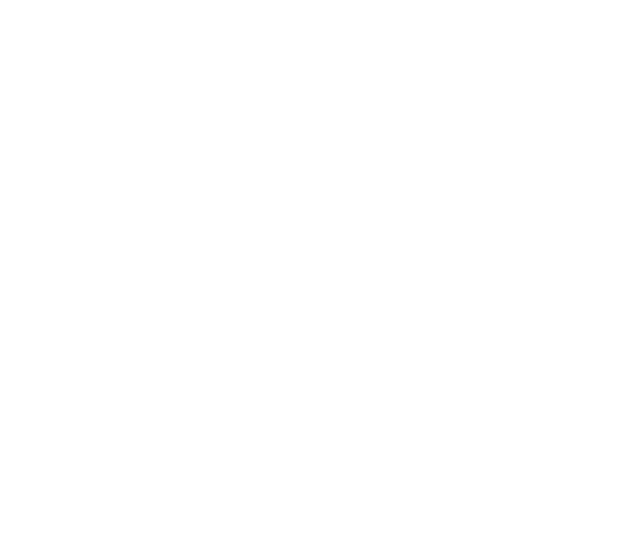
«Одной бамбуковой трубкой повернуть колесо Закона»
(на картинке каллиграфия иероглифа 尺八 "сякухати")
(на картинке каллиграфия иероглифа 尺八 "сякухати")
"Ити он дзё буцу" - в одном звуке рождается Будда
Суйдзен - медитации на звуке
Один из видов практики японской школы дзен - дующий дзен.
Японскими учеными доказано, что звуки японских бамбуковых флейт сякухати имеют такое же благотворное влияние на организм, как естественные звуки природы – шум ветра в верхушках сосен, журчание ручейка, шум морского прибоя, пение птиц, потрескивание угольков в костре и т.д. Флейта сякухати способна имитировать практически любые звуки природы, а сам её звук, его тембры и обертона гармонизируют биоритмы организма.
Поэтому слушание и исполнение медитативных пьес для сякухати имеет стойкий релаксирующий эффект и способствует
• улучшению памяти;
• сон становится более глубоким и спокойным;
• повышается способность к самоисцелению;
• укрепляется иммунная система;
• активируется мыслительная способность;
• возрастает способность к изучению иностранных языков;
• развивается уверенность в себе, исчезают страхи;
• улучшается настроение;
• возрастает активность и устойчивость к стрессам.
Причем эффект успокоения и просветления настроения ощущается сразу, уже через несколько минут прослушивания. Попробуйте сами саенс медитации на звуке сякухати. Прослушивание медитативных мелодий хонкёку для сякухати хорошо сочетается с дзадзен. Но запись звука это совсем не то, что ЖИВОЙ ЗВУК.
• улучшению памяти;
• сон становится более глубоким и спокойным;
• повышается способность к самоисцелению;
• укрепляется иммунная система;
• активируется мыслительная способность;
• возрастает способность к изучению иностранных языков;
• развивается уверенность в себе, исчезают страхи;
• улучшается настроение;
• возрастает активность и устойчивость к стрессам.
Причем эффект успокоения и просветления настроения ощущается сразу, уже через несколько минут прослушивания. Попробуйте сами саенс медитации на звуке сякухати. Прослушивание медитативных мелодий хонкёку для сякухати хорошо сочетается с дзадзен. Но запись звука это совсем не то, что ЖИВОЙ ЗВУК.
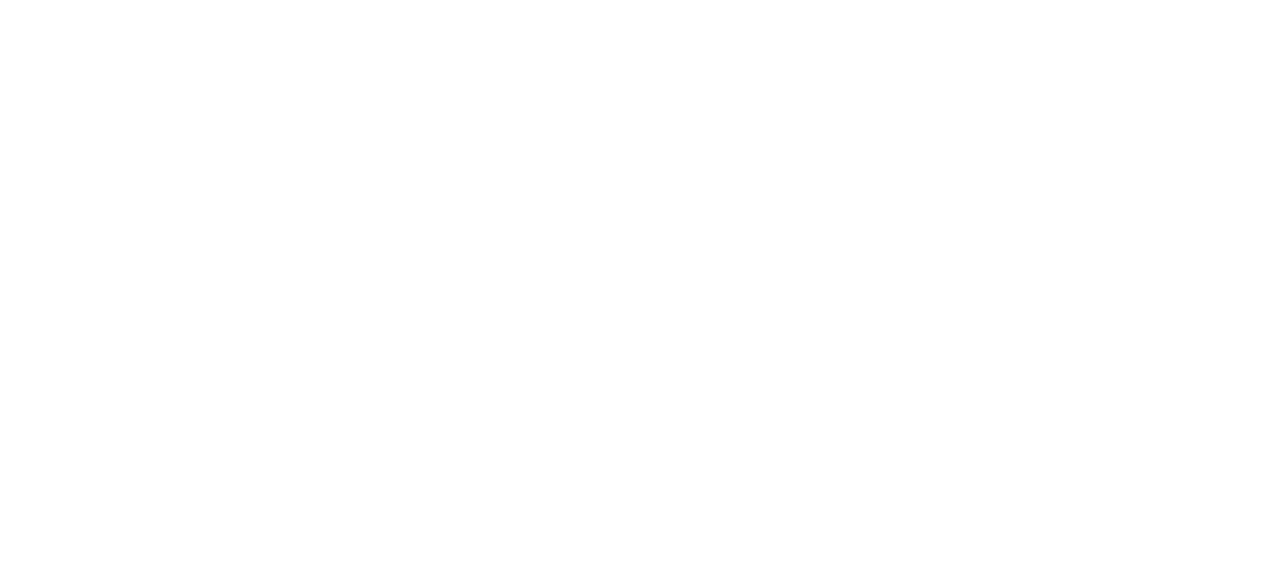
Ди Цзы (Сяо или Чи-ба) - прародительница Хотику (кётаку или сякухати). Железная флейта монахов-воинов, хранящаяся в оружейном музее монастыря Шаолинь в Китае.
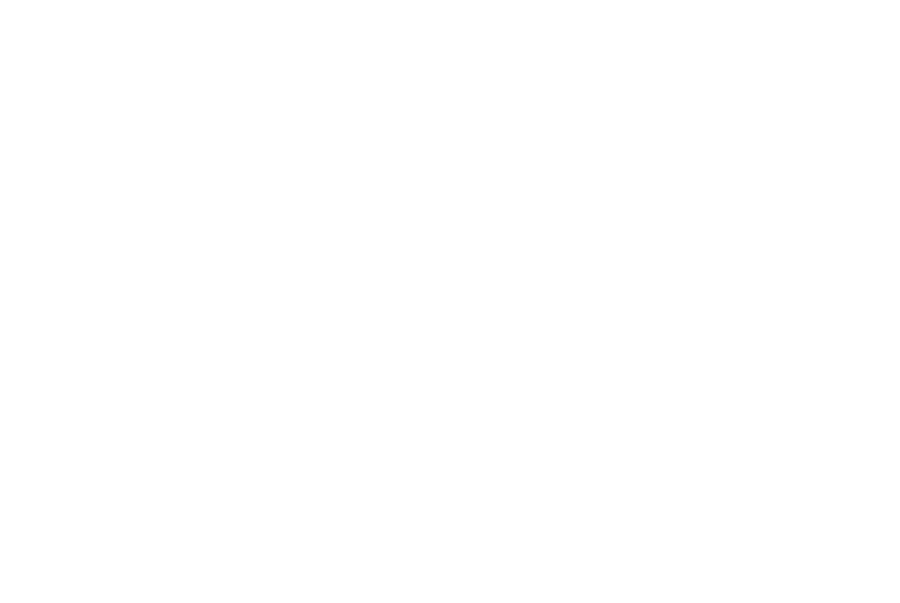
ЖИЗНЬ МОНАХОВ КОМУСО
Образ жизни «Монахов Пустоты» тоже был очень необычен. Основным направлением деятельности для них была игра на Сякухати, как средство медитативной практики суйдзэн – вместо обычной практики Дзен: пения сутр и, в частности, сидячей медитации, называемой дзадзэн. Игра Хонкёку предъявляла большие требования к контролю над дыханием. Таким образом играя на Сякухати фактически совершались (отрабатывались) дыхательные упражнения Пранаяма. Составной частью их аскезы являлось такухацу в течении минимум 3-х дней каждого месяца. Такухацу - это получение милостыни для монастыря, и продовольствия для собственного пропитания путём игры на Сякухати.
Комусо при вступлении в секту Фукэ должен был доказать своё самурайское происхождение. Монахи вне стен храма имели ряд привилегий, таких как свобода передвижения, в то время, когда никто не мог путешествовать без разрешения, а также они не подлежали гражданской юрисдикции. Монахи Комусо носили шляпы тэнгай из тростника, которые полностью закрывали лицо и давали им полную анонимность. Они часто представляли себя, используя только имя своего храма, или же не говорили вообще, а только играли Хонкёку на флейте. Эти беспрецедентные привилегии секты Фукэ, как эксклюзивной религиозной группы во все времена своего существования, и послужили основной причиной продолжавшегося спора с сёгунатом.
Все Комусо, находясь на пути к Сатори – духовному пробуждению, были оснащены тремя религиозными атрибутами: Сякухати, шляпа Тэнгай и Кэса – специальный пояс, который носили поверх кимоно буддисты , который символизировал одежду древних монахов. Помимо этого Комусо имели при себе 3 сертификата: Хонсоку - лицензия монаха, Кай-ин – документ, удостоверяющий личность, Куин – документы на беспошлинный проезд по стране. Только эти 3 религиозных атрибута и 3 сертификата подтверждали, что данный человек – настоящий Комусо, а не нищий или вор в маске.
Согласно уставу братства, в ряды комусо могли быть приняты только самураи. Возможно, этим объясняется наряд и бойцовские навыки комусо. Новый комусо получал буддийское имя, «три печати», «три принадлежности», длинный и короткий меч. После этого он отрекался от мира. Комусо обладали привилегией игры на сякухати и свободой передвижения по стране.
Комусо при вступлении в секту Фукэ должен был доказать своё самурайское происхождение. Монахи вне стен храма имели ряд привилегий, таких как свобода передвижения, в то время, когда никто не мог путешествовать без разрешения, а также они не подлежали гражданской юрисдикции. Монахи Комусо носили шляпы тэнгай из тростника, которые полностью закрывали лицо и давали им полную анонимность. Они часто представляли себя, используя только имя своего храма, или же не говорили вообще, а только играли Хонкёку на флейте. Эти беспрецедентные привилегии секты Фукэ, как эксклюзивной религиозной группы во все времена своего существования, и послужили основной причиной продолжавшегося спора с сёгунатом.
Все Комусо, находясь на пути к Сатори – духовному пробуждению, были оснащены тремя религиозными атрибутами: Сякухати, шляпа Тэнгай и Кэса – специальный пояс, который носили поверх кимоно буддисты , который символизировал одежду древних монахов. Помимо этого Комусо имели при себе 3 сертификата: Хонсоку - лицензия монаха, Кай-ин – документ, удостоверяющий личность, Куин – документы на беспошлинный проезд по стране. Только эти 3 религиозных атрибута и 3 сертификата подтверждали, что данный человек – настоящий Комусо, а не нищий или вор в маске.
Согласно уставу братства, в ряды комусо могли быть приняты только самураи. Возможно, этим объясняется наряд и бойцовские навыки комусо. Новый комусо получал буддийское имя, «три печати», «три принадлежности», длинный и короткий меч. После этого он отрекался от мира. Комусо обладали привилегией игры на сякухати и свободой передвижения по стране.
Повседневная деятельность комусо была сконцентрирована вокруг игры на сякухати. Утром настоятель обычно играл мелодию "Какурэйсэй". Это была пьеса пробуждения, с которой начинался день. Монахи собирались вокруг алтаря и исполняли мелодию "Тёка" ("Утренняя песнь"), после чего начинались их дневные службы. В течение дня они чередовали игру на сякухати, сидячую медитацию дзадзэн, занятия боевыми искусствами и схиму нищенствования. Вечером, перед тем как снова приступить к дзадзэн, звучала пьеса "Банка" ("Вечерняя песнь"). Эзотерическая практика ночью включала исполнение двух музыкальных произведений: "Синъя" ("Глубокая ночь") и "Рэйбо" ("Поклонение колокольчику").
От каждого монаха требовали, чтобы он не менее трех дней в месяц ходил просить подаяние. Во время последнего из перечисленных послушаний - странствия ради милостыни - играли такие мелодии, как "Тори" ("Проход"), "Кадодзукэ" ("Перекресток") и "Хатигаэси" ("Возвращение чаши" - здесь имелась в виду чаша для подаяния).
Когда в пути встречались два комусо, они должны были воспроизвести "Ёбитакэ". Это был своеобразный призыв, исполняемый на сякухати, который означал "Зов бамбука". В ответ на приветствие нужно было сыграть "Укэтакэ", смысл которого - "принять и подхватить бамбук". По дороге, желая остановиться в одном из храмов своего ордена, рассеянных по всей стране, они играли пьесу "Хиракимон" ("Отворение врат") для того, чтобы их впустили на ночь.
Все ритуальные пьесы, моления о подаянии, исполняемые на сякухати, даже те произведения, которые, кажется, более походили на развлечения монахов, были частью дзэнской практики, называемой суйдзэн (суй - "дуть, играть на духовом инструменте").
Для начинающего комусо флейта сякухати являлась воплощением срединного пути. Она не издавала слишком тихие или слишком громкие звуки и в то же время отображала множество нюансов разных тонов. Долгие звуки флейты требовали сосредоточения дыхания и чистого сознания. Тончайшее модулирование мелодии, согласно учению школы, показывало то, насколько адепт смог постичь состояние недвойственности и соединить себя со Вселенной.
Дыхание музыканта считалось с мелодией единым целым. Невнимательная игра «икинуки» («пропуск дыхания») сигнализировала о несовершенстве практики, но свободный характер игры и импровизация не считались ошибками. Для практики существовали три формальные позы:
дзадзо — сидячая поза, при которой человек подгибает под себя ноги;
риссо — стоячая поза;
исудзо — сидячая поза на стуле.
От каждого монаха требовали, чтобы он не менее трех дней в месяц ходил просить подаяние. Во время последнего из перечисленных послушаний - странствия ради милостыни - играли такие мелодии, как "Тори" ("Проход"), "Кадодзукэ" ("Перекресток") и "Хатигаэси" ("Возвращение чаши" - здесь имелась в виду чаша для подаяния).
Когда в пути встречались два комусо, они должны были воспроизвести "Ёбитакэ". Это был своеобразный призыв, исполняемый на сякухати, который означал "Зов бамбука". В ответ на приветствие нужно было сыграть "Укэтакэ", смысл которого - "принять и подхватить бамбук". По дороге, желая остановиться в одном из храмов своего ордена, рассеянных по всей стране, они играли пьесу "Хиракимон" ("Отворение врат") для того, чтобы их впустили на ночь.
Все ритуальные пьесы, моления о подаянии, исполняемые на сякухати, даже те произведения, которые, кажется, более походили на развлечения монахов, были частью дзэнской практики, называемой суйдзэн (суй - "дуть, играть на духовом инструменте").
Для начинающего комусо флейта сякухати являлась воплощением срединного пути. Она не издавала слишком тихие или слишком громкие звуки и в то же время отображала множество нюансов разных тонов. Долгие звуки флейты требовали сосредоточения дыхания и чистого сознания. Тончайшее модулирование мелодии, согласно учению школы, показывало то, насколько адепт смог постичь состояние недвойственности и соединить себя со Вселенной.
Дыхание музыканта считалось с мелодией единым целым. Невнимательная игра «икинуки» («пропуск дыхания») сигнализировала о несовершенстве практики, но свободный характер игры и импровизация не считались ошибками. Для практики существовали три формальные позы:
дзадзо — сидячая поза, при которой человек подгибает под себя ноги;
риссо — стоячая поза;
исудзо — сидячая поза на стуле.
КОМУСО: САМУРАИ-ОТШЕЛЬНИКИ
Период наивысшего расцвета секты Фукэ может хорошо иллюстрировать документ Садами, дотированный приблизительно 17-м веком.
1. Японское братство Комусо – это религиозная группа, состоящая из ронинов – самураев без хозяина – которые хотели бы временно покинуть мир. Храмы их находятся вне ведения властей.
2. Все отношения регулирует главный храм. Все должны уважать волю главного храма. Комусо, служащие во второстепенных храмах подпадают под юрисдикцию главного храма.
3. Комусо путешествуют в соответствии с уставом их секты. Им должна быть предоставлена свобода передвижения.
4. Если Комусо осуществляет такухацу (религиозный сбор милостыни) в чужой земле, то местные жители не могут бросить ему вызов в соответствии с законами страны. Если монаху Комусо препятствуют совершать такухацу, то он должен сообщить в главный храм. Если главный храм не сможет решить этот вопрос, то прошение будет направлено в резиденцию императора Эдо.
5. Во время путешествия на улице или в гостинице Комусо должен носить тэнгай (шляпу из соломы), закрывающую лицо.
6. Во время такухацу Комусо не должен брать с собой оружие. Он может иметь только нож короче одного сяку (33,3 см), спрятанный под одеждой.
7. Комусо не преследует врагов во время своего путешествия. Поэтому ему должен быть обеспечен свободный проезд через границы, а также освобождение от пошлин, которые налагаются на прибыль от выступлений, а так же от дорожных сборов при переправе на лодке.
8. Бансё – «надзорные» монахи, будут направлены во все районы страны, где будут осуществлять надзор за деятельностью Комусо.
9. Если вы увидите ложного монаха Комусо, то уничтожьте его в соответствии с законом. Запрещается брать взятки у ложных и изгнанных монахов. Берущий взятки будет сурово наказан. Таким образом, будьте бдительны и действуйте!
10. Никто не может играть на Сякухати, кроме монахов Комусо. Если какой-то самурай хочет играть на Сякухати, он должен получить разрешение главного храма. Только самураи могут играть на Сякухати и стать монахами Комусо.
11. Если Комусо услышал о заговоре монахов, он немедленно должен уведомить власти. Участники заговора и Бансё будут наказаны.
12. Когда Комусо совершает такухацу, он не может брать себе компаньона.
13. Комусо не должен собирать пожертвования, требовать питание и проживание у бедных, а также участвовать в приемах, банкетах, азартных играх. Комусо не должен брать взятки.
14. Когда среди Комусо встречаются два врага, они направляют в главный храм прошение лишить кого-то из них жреческого сана. Дуэль происходит на территории храма. Противники должны бороться без посторонней помощи. Они могут действовать только как самураи.
15. Когда самурай вступит на землю храма с окровавленным мечом, то его сначала должны выслушать, а потом предложить убежище. Если он скрыл свои прошлые действия или совершил плохое дело, то храм может отказать ему в защите.
16. Комусо может убить врага в одиночку, но он не должен участвовать в групповых сражениях. Он может действовать только как самурай.
17. Комусо не может передвигаться верхом или в носилках на глазах у большого количества людей.
18. Когда Комусо приближается к границе области, он должен предоставить сертификат главного храма, и ему будет разрешено свободно проходить. Если кто-то будет намеренно избегать контрольно-пропускных пунктов, то их действия будут расследованы. Будьте мудры и соблюдайте правила!
19. Если Комусо совершает такухацу за пределами своего храма, то не следует задерживаться в постороннем городе больше семи дней. Во время такухацу Комусо не играет светскую музыку или народные песни. Также Комусо не должны участвовать к каких-либо выступлениях.
20. Когда Комусо совершает такухацу, Сякухати не должна быть меньше 1 сяку и 8 сун. Запрещается играть не предписанные пьесы.
21. Положение о Комусо было разработано для всех самураев под солнцем. Помните путь воина [Бусидо], потому что в любой момент Комусо может стать самураем. Жить как монах, но в душе оставаться самураем. Имейте в виду, что это религиозная секта Бусидо – самураев. Поэтому вам и гарантирована свобода передвижения по стране.
1. Японское братство Комусо – это религиозная группа, состоящая из ронинов – самураев без хозяина – которые хотели бы временно покинуть мир. Храмы их находятся вне ведения властей.
2. Все отношения регулирует главный храм. Все должны уважать волю главного храма. Комусо, служащие во второстепенных храмах подпадают под юрисдикцию главного храма.
3. Комусо путешествуют в соответствии с уставом их секты. Им должна быть предоставлена свобода передвижения.
4. Если Комусо осуществляет такухацу (религиозный сбор милостыни) в чужой земле, то местные жители не могут бросить ему вызов в соответствии с законами страны. Если монаху Комусо препятствуют совершать такухацу, то он должен сообщить в главный храм. Если главный храм не сможет решить этот вопрос, то прошение будет направлено в резиденцию императора Эдо.
5. Во время путешествия на улице или в гостинице Комусо должен носить тэнгай (шляпу из соломы), закрывающую лицо.
6. Во время такухацу Комусо не должен брать с собой оружие. Он может иметь только нож короче одного сяку (33,3 см), спрятанный под одеждой.
7. Комусо не преследует врагов во время своего путешествия. Поэтому ему должен быть обеспечен свободный проезд через границы, а также освобождение от пошлин, которые налагаются на прибыль от выступлений, а так же от дорожных сборов при переправе на лодке.
8. Бансё – «надзорные» монахи, будут направлены во все районы страны, где будут осуществлять надзор за деятельностью Комусо.
9. Если вы увидите ложного монаха Комусо, то уничтожьте его в соответствии с законом. Запрещается брать взятки у ложных и изгнанных монахов. Берущий взятки будет сурово наказан. Таким образом, будьте бдительны и действуйте!
10. Никто не может играть на Сякухати, кроме монахов Комусо. Если какой-то самурай хочет играть на Сякухати, он должен получить разрешение главного храма. Только самураи могут играть на Сякухати и стать монахами Комусо.
11. Если Комусо услышал о заговоре монахов, он немедленно должен уведомить власти. Участники заговора и Бансё будут наказаны.
12. Когда Комусо совершает такухацу, он не может брать себе компаньона.
13. Комусо не должен собирать пожертвования, требовать питание и проживание у бедных, а также участвовать в приемах, банкетах, азартных играх. Комусо не должен брать взятки.
14. Когда среди Комусо встречаются два врага, они направляют в главный храм прошение лишить кого-то из них жреческого сана. Дуэль происходит на территории храма. Противники должны бороться без посторонней помощи. Они могут действовать только как самураи.
15. Когда самурай вступит на землю храма с окровавленным мечом, то его сначала должны выслушать, а потом предложить убежище. Если он скрыл свои прошлые действия или совершил плохое дело, то храм может отказать ему в защите.
16. Комусо может убить врага в одиночку, но он не должен участвовать в групповых сражениях. Он может действовать только как самурай.
17. Комусо не может передвигаться верхом или в носилках на глазах у большого количества людей.
18. Когда Комусо приближается к границе области, он должен предоставить сертификат главного храма, и ему будет разрешено свободно проходить. Если кто-то будет намеренно избегать контрольно-пропускных пунктов, то их действия будут расследованы. Будьте мудры и соблюдайте правила!
19. Если Комусо совершает такухацу за пределами своего храма, то не следует задерживаться в постороннем городе больше семи дней. Во время такухацу Комусо не играет светскую музыку или народные песни. Также Комусо не должны участвовать к каких-либо выступлениях.
20. Когда Комусо совершает такухацу, Сякухати не должна быть меньше 1 сяку и 8 сун. Запрещается играть не предписанные пьесы.
21. Положение о Комусо было разработано для всех самураев под солнцем. Помните путь воина [Бусидо], потому что в любой момент Комусо может стать самураем. Жить как монах, но в душе оставаться самураем. Имейте в виду, что это религиозная секта Бусидо – самураев. Поэтому вам и гарантирована свобода передвижения по стране.
Почти одновременно с появлением сякухати в Японии зарождается представление о сакральности музыки, исполняемой на флейте. Предание связывает ее чудотворную силу с именем принца Сётоку Тайси (548-622). Выдающийся государственный деятель, престолонаследник, активный проповедник буддизма, автор исторических сочинений и первых комментариев к буддийским сутрам, он стал одной из самых авторитетных фигур в японской истории. Так, в письменных источниках раннего средневековья говорилось, что, когда принц Сётоку по дороге в храм на склоне горы играл на сякухати, на звуки флейты спустились небесные феи и танцевали. Сякухати из храма Хорюдзи, находящаяся ныне в постоянной экспозиции Токийского национального музея, считается тем уникальным инструментом принца Сётоку, с которого начался путь сакральной флейты в Японии. Сякухати упоминается также в связи с именем буддийского священника Эннина (794-864), который изучал буддизм в танском Китае. Он ввел аккомпанемент сякухати во время чтений сутры, посвященной Будде Амида. По его мнению, голос флейты не только украшал молитву, но с большей проникновенностью и чистотой выражал ее суть.
"Гэндзи моногатари" свидетельствует, что музицирование на сякухати, в том числе и в составе различных ансамблей, было распространено в кругах хэйанской придворной аристократии. Вплоть до этого времени под сякухати, по-видимому подразумевается инструмент, соответствующий китайскому прототипу.
Новый этап в формировании традиции сакральной флейты связан с одной из самых выдающихся личностей периода Муромати Иккю Содзюном (1394-1481). Поэт, живописец, каллиграф, религиозный реформатор, эксцентричный философ и проповедник, в конце жизни настоятель крупнейшего столичного храма Дайтокудзи, он оказал воздействие практически на все области культурной жизни своего времени: от чайной церемонии и дзэнского сада до театра Но и музыки сякухати.
Звук, по его мнению, играл большую роль в чайной церемонии: шум закипающей воды в котелке, постукивание венчика при взбивании чая, бульканье воды, - все было призвано создавать ощущение гармонии, чистоты, почтения, тишины. Та же атмосфера сопутствовала и игре на сякухати, когда человеческое дыхание из глубины души, проходя через простую бамбуковую трубку, становилось дыханием самой жизни. При этом дзэнскому сознанию, которое стремилось к достижению не-двойственности восприятия, в принципе противоречило разделение мира звуков на музыкальные и немузыкальные, подобно тому как во время чайной церемонии все звуковое окружение образует совершенную по красоте симфонию, так и в звуке сякухати "шумовая" часть звукового спектра является не менее важным компонентом звучания, чем та, которая ассоциируется с высотно-определенным тоном. И хотя только при определенных исполнительских приемах она выходит на первый план, ее постоянное присутствие не только осознается музыкантом, но и непрерывно контролируется им. Причем сложность процессов, происходящих в этой области звучания (в диапазоне от почти белого шума до узкополосной зоны, способной формировать отчетливо воспринимаемый контрапункт к основной мелодической линии), безусловно подчиняющихся художественной воле настоящего мастера, имеет аналоги, пожалуй, лишь в новейших композициях, основанных на технике гранулярного синтеза. И у каждого мастера, а особенно у представителей разных исполнительских школ, эта часть звуковой палитры совершенно различна, несет на себе неповторимый отпечаток исполнительской индивидуальности. Однако следует отметить, что при столь изощренной дифференцированности слухового восприятия, необходимой для исполнения и слушания музыки сякухати, весь звучащий комплекс осознается как неделимое целое, так же как именно недвойственность восприятия мира, согласно буддийским представлениям, наделяет человека знанием всех вещей.
В собрании стихов, написанных в классическом китайском стиле "Кёунсю" ("Собрание безумных облаков"), пронизанном образами звука и музыки сякухати, философией звука как средства пробуждения сознания, Иккю пишет о сякухати как о чистом голосе вселенной: "Играя на сякухати, видишь невидимые сферы, во всей вселенной только одна песня".
"Гэндзи моногатари" свидетельствует, что музицирование на сякухати, в том числе и в составе различных ансамблей, было распространено в кругах хэйанской придворной аристократии. Вплоть до этого времени под сякухати, по-видимому подразумевается инструмент, соответствующий китайскому прототипу.
Новый этап в формировании традиции сакральной флейты связан с одной из самых выдающихся личностей периода Муромати Иккю Содзюном (1394-1481). Поэт, живописец, каллиграф, религиозный реформатор, эксцентричный философ и проповедник, в конце жизни настоятель крупнейшего столичного храма Дайтокудзи, он оказал воздействие практически на все области культурной жизни своего времени: от чайной церемонии и дзэнского сада до театра Но и музыки сякухати.
Звук, по его мнению, играл большую роль в чайной церемонии: шум закипающей воды в котелке, постукивание венчика при взбивании чая, бульканье воды, - все было призвано создавать ощущение гармонии, чистоты, почтения, тишины. Та же атмосфера сопутствовала и игре на сякухати, когда человеческое дыхание из глубины души, проходя через простую бамбуковую трубку, становилось дыханием самой жизни. При этом дзэнскому сознанию, которое стремилось к достижению не-двойственности восприятия, в принципе противоречило разделение мира звуков на музыкальные и немузыкальные, подобно тому как во время чайной церемонии все звуковое окружение образует совершенную по красоте симфонию, так и в звуке сякухати "шумовая" часть звукового спектра является не менее важным компонентом звучания, чем та, которая ассоциируется с высотно-определенным тоном. И хотя только при определенных исполнительских приемах она выходит на первый план, ее постоянное присутствие не только осознается музыкантом, но и непрерывно контролируется им. Причем сложность процессов, происходящих в этой области звучания (в диапазоне от почти белого шума до узкополосной зоны, способной формировать отчетливо воспринимаемый контрапункт к основной мелодической линии), безусловно подчиняющихся художественной воле настоящего мастера, имеет аналоги, пожалуй, лишь в новейших композициях, основанных на технике гранулярного синтеза. И у каждого мастера, а особенно у представителей разных исполнительских школ, эта часть звуковой палитры совершенно различна, несет на себе неповторимый отпечаток исполнительской индивидуальности. Однако следует отметить, что при столь изощренной дифференцированности слухового восприятия, необходимой для исполнения и слушания музыки сякухати, весь звучащий комплекс осознается как неделимое целое, так же как именно недвойственность восприятия мира, согласно буддийским представлениям, наделяет человека знанием всех вещей.
В собрании стихов, написанных в классическом китайском стиле "Кёунсю" ("Собрание безумных облаков"), пронизанном образами звука и музыки сякухати, философией звука как средства пробуждения сознания, Иккю пишет о сякухати как о чистом голосе вселенной: "Играя на сякухати, видишь невидимые сферы, во всей вселенной только одна песня".
Также именно Иккю, размышлявший о пробуждающей сознание универсальной музыке сякухати, ввел в японскую литературу имя китайского монаха Пухуа, достигшего просветления благодаря вслушиванию в звук маленького ручного колокольчика и позднее соотнесенного с первоистоком сакральной традиции сякухати.
Примерно с начала XVII в. получили хождение различные истории о преподобном Иккю и флейте сякухати. Одна из них рассказывала, как Иккю вместе с другим монахом Итиросо удалился из Киото и поселился в хижине в Удзи. Там они срезали бамбук, сделали сякухати и играли. Согласно иной версии, некий монах по имени Роан жил в уединении, но дружил и общался с Иккю. Поклоняясь сякухати, он нарек себя Фукэцудося (следующий по пути ветра и отверстий) и был первым комусо (букв. "монах небытия и пустоты"). В третьем варианте опять речь шла о Роане, близком друге Иккю. "Открыв, как следовать пути Пухуа с его колокольчиком, он использовал сякухати. Одним дуновением извлекая звук, он достиг просветления и присвоил себе имя Фукэдося. Иккю присоединился к нему". Флейта, на которой, по преданию, играл наставник, стала национальной реликвией и находится в храме Хосюнъин в Киото.
Первые сведения о странствующих монахах, играющих на флейтах, относятся к первой половине XVI в. Они именовались монахами комо (комосо), то есть "монахи соломенной циновки". В поэтическом творчестве XVI в. мелодии неразлучного с флейтой странника уподоблялись ветру среди весенних цветов, напоминая о бренности жизни, а прозвище комосо стало записываться иероглифами "ко" - пустота, небытие, "мо" - иллюзия, "cо" - монах.
К сожалению, сведения о том, как выглядела флейта комосо и к какой разновидности сякухати относилась, противоречивы. До недавнего времени считалось, что это была флейта хитоёгири (см. выше). С другой стороны, в "Боро-но тэтё" ("Записи монаха Боро") (1628 г.) флейта комосо описана как сякухати с 5-ю пальцевыми отверстиями и 3-мя коленами бамбука. Также в пособии для музыкантов "Кандэн кохицу", автором которого является Бан Кокэй (1733-1806), приведено изображение комосо с довольно длинной изогнутой флейтой, что не характерно для хитоёгири. Однако, не видно и узлов бамбука. Крупнейший специалист по истории традиционных инструментов Камисанго считает, что инструменты монахов комосо, будучи самодельными, не имели стандартов ни по форме, ни по звуковому диапазону.
XVII в. в истории японской культуры стал новым этапом в истории сакральной флейты, подготовленным всем предшествующим ходом истории. Среди комосо выделилась группа самураев, идентифицирующая себя с дзэнской традицией секты Риндзай (кит. Линь-цзы). Члены новой секты стали называться комусо, а сама она Фукэ-сю. В соответствии с традицией было предъявлено письменное изложение истории секты под названием "Кётаку дэнки" ("Хроника передачи колокольчика пустоты"), автором которой считался дзэнский наставник и мастер игры на сякухати Тонва (XVII в.). Согласно "Кётаку дэнки", основателем Фукэ-сю был чань-буддист Пухуа, который жил в Китае в эпоху Тан (VII-IX вв.) и общался со знаменитым наставником Линь-цзы, о чем свидетельствует один из наиболее фундаментальных текстов школы чань (яп. дзэн) "Линь-цзы лу".
Монах Чжан Бо смог воспринять невыразимую словами преобразующую суть колокольчика Пухуа и повторить его на флейте. Он подумал, что полая флейта рождает звук, подобный звону колокольчика и назвал мелодию "Кётаку" ("Колокольчик пустоты"). Но обучить исполнению данной мелодии обычным путем оказалось невозможным. Она передавалась в процессе чаньской практики как тайна откровения "от сердца к сердцу".
Чжан Бо передал открывшееся его сердцу тайное знание другому Чжану, тот - следующему. Через последовательный ряд, состоявший из шестнадцати Чжанов, мелодия пришла к некоему Чжан Цаню, жившему в XIII в. Чжан Цань не был озабочен передачей сокровенной мелодии и предавался длительной сидячей медитации, время от времени переходя из храма в храм. В одном из них он повстречался с приехавшим в Китай японским монахом Какусином Хатто Дзэндзи (1207-1298) и неожиданно осуществил передачу мелодии. На этом завершалась, по-видимому, полностью придуманная автором китайская страница истории "Колокольчика Пустоты".
В Японии Какусин стал первым патриархом дзэнской секты Фукэ, получившей название от японской транскрипции имени Пухуа. Из Китая он вернулся в сопровождении четырех китайских светских музыкантов, но на родине обрел истинного преемника, соотечественника Китику. Китику принадлежит открытие еще двух мелодий, обладающих духовной сущностью.
Так в "Кётаку Дэнки" объясняется зарождение традиции странствовать и формирование канонического духовного музыкального репертуара, названного Хонкёку ("Главные мелодии").
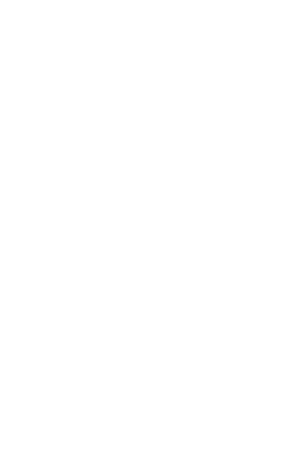
«Записи бесед „мудростью освещающего” Наставника чань Линь-цзи
Принадлежит к жанру буддийских юйлу школы чань (дхьяна) эпохи Тан (618–907). Представляя собой собрание записанных непосредственными учениками бесед и проповедей знаменитого чаньского Наставника Линь-цзи (ум. в 867 г.), этот памятник был признан одним из наиболее фундаментальных текстов школы чань, высшим образцом этой литературы.
Японский монах комусо Итиро Макихара сказал так: В этом тексте есть всё, чтобы понять основы принципов буддиской школы Риндзай, ответвлением которой стала дзэн секта Фуке сю монахов комусо практикующих суйдзэн. Это единственный в мире текст, где упоминается Пу-хуа, отец основатель секты, чаньский монах вместо слов звонивший в маленький деревянный колокольчик. А как известно из текста "кётаку дэнки" - основного свода законов дзэн монахов комусо , сякухати была создана для имитации звуков колокольчика Пу-хуа.
Японский монах комусо Итиро Макихара сказал так: В этом тексте есть всё, чтобы понять основы принципов буддиской школы Риндзай, ответвлением которой стала дзэн секта Фуке сю монахов комусо практикующих суйдзэн. Это единственный в мире текст, где упоминается Пу-хуа, отец основатель секты, чаньский монах вместо слов звонивший в маленький деревянный колокольчик. А как известно из текста "кётаку дэнки" - основного свода законов дзэн монахов комусо , сякухати была создана для имитации звуков колокольчика Пу-хуа.
Философия и практика комусо
Грандмастер Хисамацу Фуё (久松 風陽)
Годы жизни: 1791 - 1871
Хисамацу Фуё был комусо и четвёртым Грандмастером (Великим мастером) Кинко. В конце эпохи Эдо Хисамацу Фуё, ученик Кинко III, возглавил Кинко-рю, так как брат Кинко III, Кинко IV ( ум. 1860), не был опытным исполнителем и отказался от своего положения.
В своём исполнении пьес на сякухати Хисамацу Фуё сумел достигнуть весьма утончённой музыкальности и мастерства, но при этом сохранял глубокую духовность. Мы знаем его не только как одного из лучших исполнителей, но и как человека, написавшего лучшие труды по философии и практике комусо. Он написал:
Первые два текста предназначены для начинающих изучать сякухати, вступительные сочинения, имеющие отношение к правильному пути игры, правильному мышлению, некоторым основам репертуара и т. д. Последний (третий) текст — это эпатажный призыв придерживаться правильного пути для игроков сякухати монахов комусо, особенно адресованый тем, кто отклоняется от Пути Кинко-рю.Это очень важные тексты для изучения как религиозных, так и музыкальных аспектов сякухати.
Хисамацу Фуё был комусо и четвёртым Грандмастером (Великим мастером) Кинко. В конце эпохи Эдо Хисамацу Фуё, ученик Кинко III, возглавил Кинко-рю, так как брат Кинко III, Кинко IV ( ум. 1860), не был опытным исполнителем и отказался от своего положения.
В своём исполнении пьес на сякухати Хисамацу Фуё сумел достигнуть весьма утончённой музыкальности и мастерства, но при этом сохранял глубокую духовность. Мы знаем его не только как одного из лучших исполнителей, но и как человека, написавшего лучшие труды по философии и практике комусо. Он написал:
- в 1818 году «Хитори Котоба» (獨言) или «Монологи»
- в 1823 году «Хитори Мондо» (獨問答) или «Одинокий диалог»
- в 1835 году «Кайсэи Хоуго» (海静法語) или «Проповедь спокойного моря»
Первые два текста предназначены для начинающих изучать сякухати, вступительные сочинения, имеющие отношение к правильному пути игры, правильному мышлению, некоторым основам репертуара и т. д. Последний (третий) текст — это эпатажный призыв придерживаться правильного пути для игроков сякухати монахов комусо, особенно адресованый тем, кто отклоняется от Пути Кинко-рю.Это очень важные тексты для изучения как религиозных, так и музыкальных аспектов сякухати.
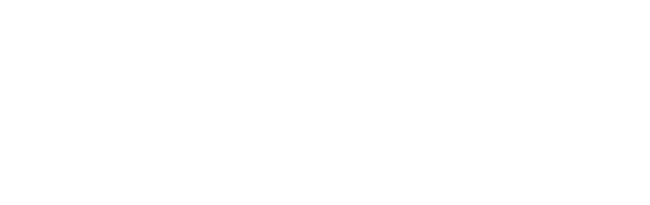
Кроме всего прочего Хисамацу Фуё был еще и замечательным мастером по созданию флейт. Как говорит Джон Сингер, на текущий момент сохранилось только 7 или 8 Фуё-сякухати. На фото ниже представлены инструменты в 1.6 и 1.8 сяку, находящиеся в частной коллекции.
Коку Нисимура - Кётаку
Альбом: "Кётаку" мастер: Коку Нисимура в 1964 году.
Треклист:
00:00:00 – Choshi (Myoan Shinpo Ryu) 調子
00:04:59 – Ajikan (Itchoken) 阿字観
00:14:47 – Reibo霊慕
00:26:05 – Chôshi (Yamato) 調子 (大和)
00:33:56 – Saji 薩慈
Информация о треке:
1. Toshi (Myoan Shinpo Ruy): обучающая песня, напоминающая образ города Киото.
2. Аджикан: Песня о путешествии человека от рождения до смерти, основанная на священных писаниях буддизма.
3. Reibo: Песня из северо-восточной части Японии, предлагающая опыт прослушивания звука колокола, движущегося в воздухе.
4. Chôshi (Yamato): Обучающая песня из области Ямато. В этой версии Ямато choshi представлен Kyo-choshi.
5. Saji: Песня о любви Боддисатвы. Аранжировка: Koku Nishimura.
Треклист:
00:00:00 – Choshi (Myoan Shinpo Ryu) 調子
00:04:59 – Ajikan (Itchoken) 阿字観
00:14:47 – Reibo霊慕
00:26:05 – Chôshi (Yamato) 調子 (大和)
00:33:56 – Saji 薩慈
Информация о треке:
1. Toshi (Myoan Shinpo Ruy): обучающая песня, напоминающая образ города Киото.
2. Аджикан: Песня о путешествии человека от рождения до смерти, основанная на священных писаниях буддизма.
3. Reibo: Песня из северо-восточной части Японии, предлагающая опыт прослушивания звука колокола, движущегося в воздухе.
4. Chôshi (Yamato): Обучающая песня из области Ямато. В этой версии Ямато choshi представлен Kyo-choshi.
5. Saji: Песня о любви Боддисатвы. Аранжировка: Koku Nishimura.
Коку Нисимура - Кётаку
Kokū Nishimura - Kyotaku|西村 虚空・虚鐸 [1998;CD-Rip]
Примечания: Эта уникальная музыка была записана мастером Коку Нисимура в 1964 году. Она была записана в его доме на острове Кюсю в Японии. Он использовал старомодный магнитофон с одним микрофоном, поэтому было непросто донести запись на современном уровне. Максимально возможное количество шума было удалено со старых лент с использованием новейших технологических методов. Нашей целью было сохранить оригинальное звучание флейты кётаку Коку Нисимура.
Примечания: Эта уникальная музыка была записана мастером Коку Нисимура в 1964 году. Она была записана в его доме на острове Кюсю в Японии. Он использовал старомодный магнитофон с одним микрофоном, поэтому было непросто донести запись на современном уровне. Максимально возможное количество шума было удалено со старых лент с использованием новейших технологических методов. Нашей целью было сохранить оригинальное звучание флейты кётаку Коку Нисимура.
Рекомендуем посетить страницы:
